Изобретение традиций эрик хобсбаум обзор
Обновлено: 01.07.2024
Вопрос на самом деле весьма провокационный, потому что сама по себе концепция "изобретения традиций", предложенная Эриком Хобсбаумом — весьма провокационная. Хобсбаум в целом-то справедливо отмечал, что многие как бы "старые" традиции на самом деле не только появились недавно, но ещё и более-менее сознательно внедрялись через повторение. Для создания, понятно, некоей связи с определённым историческим периодом.
Проблема идеи в том, что даже если традицию изобрели или просто насаждали искусственно, это ещё не значит, что:
- Она действительно не имеет связи с прошлым.
- Она через определённое время после насаждения не стала уже вполне себе естественной традицией — ведь дело было слишком давно и уже не имеет значения, как это придумали.
Из-за этого о любом примере "изобретения традиции" можно сраться до хрипоты и без какого-либо результата. Часто приводится пример с тартанами (клетчатыми узорами) шотландских кланов. С одной стороны да, сами по себе конкретные узоры для конкретных кланов родом из XIX века. Только вот с тех пор прошло века полтора — считать ли теперь нам традицию искусственной? Ведь всё равно когда-то узоры придумать должны были — важно ли теперь, случилось это 150 или 500 лет назад? Так и так очень давно, это традиция уже глубоко в культуре, многие поколения шотландцев с ней выросли. Тем более что сами килты носят с конца XVI века.
Так же и с другими примерами. Например, японские боевые искусства. С одной стороны, да — карате родом из ХХ века (максимум можно на самый конец XIX продлить), так что прямо "древней" традицией здесь не пахнет. Но с другой, оно возникло не на пустом месте, а на вполне себе древних китайских и японских традициях того же плана — и нельзя ему отказать в связи с древней историей вообще.
Ну или вот, звезда Давида. Сама по себе она — символ настолько древний, что уже даже нельзя установить, где и когда впервые появилась. При этом её ассоциация с евреями, бытие символом еврейства — это лишь в конца XIX века. Однако считать ли её теперь изобретённой традицией, искусственно проводящей связь с древностью — если в древности евреи тоже её использовали (в числе многих других), и звездой именно Давида (иудейского царя) её называют очень давно, и Всемирный сионистский конгресс (на котором было принято решение о данном символе) был уже 124 года назад, за которые у евреев возник немалый такой пласт реальной истории с этим символом?
То есть Хобсбаум тут немного Капитан Очевидность — ну да, все традиции кто-то когда-то придумал. Да, зачастую это произошло далеко не так давно, как широким массам кажется или как им кто-то пытается показать. Всё это правда, однако возникает вопрос "и что?". То есть что с этим делать-то, какие выводы концепция позволит нам сделать и какие шаги предпринять? Из Хобсбаума лично мне, скажем, это не совсем ясно.
Понятно, что через подобное автору было удобно критиковать всякого рода националистов, часто использующих приём "изобретения традиции" — тут далеко не надо ходить за примерами. Достаточно вспомнить то, как итальянские фашисты с картины Жака Луи Давида, написанной в 1784, взяли якобы "римское приветствие".
Роджер Скрутон. Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых. М.: Издательский дом ВШЭ, 2021. Перевод с английского Никиты Глазкова. Содержание
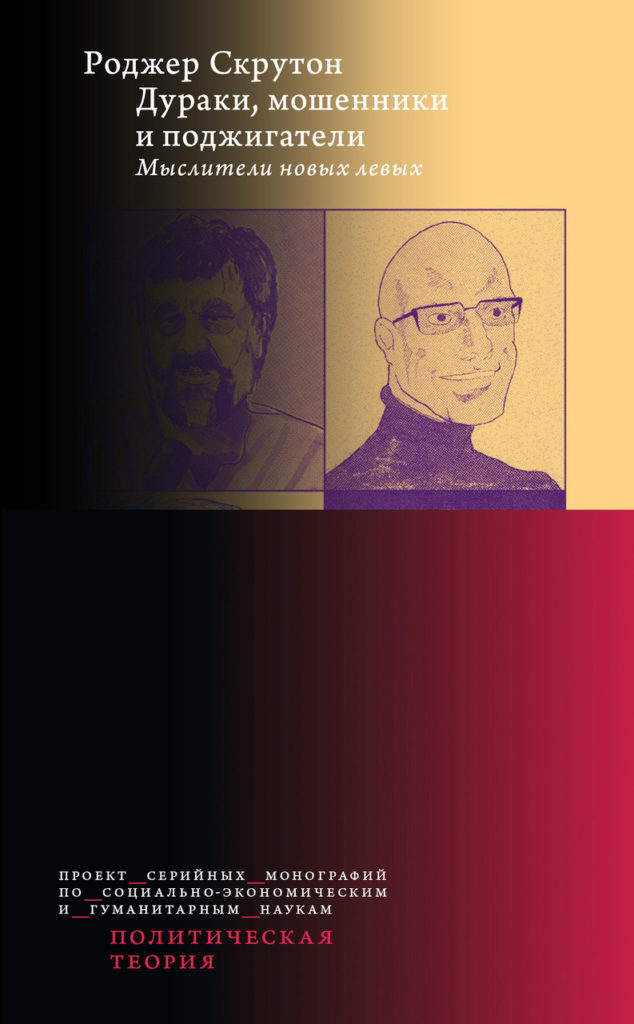
Тридцать лет — один ответ
Когда в разгар правого поворота времен Маргарет Тэтчер сорокалетний Роджер Скрутон, редактор консервативного журнала The Salisbury Review (который располагался на идеологической шкале правее, чем правящая Консервативная партия), опубликовал первый вариант «Мыслителей новых левых», он, по его собственному утверждению, стал для «рукопожатных» британских интеллектуалов персоной нон грата.
«Критики встретили книгу насмешками и негодованием, не упуская случая над ней надругаться. Эта публикация стала началом конца моей университетской карьеры: рецензенты сильно сомневались в интеллектуальных способностях и моральном облике ее автора. Эта внезапная опала поспособствовала атакам на все мои сочинения, касались они политики или нет. Нераспроданный тираж „Мыслителей новых левых” вскоре был изъят с полок книжных магазинов, переместившись в сарай в моем саду», — вспоминает Скрутон спустя три десятилетия в предисловии к переизданию книги с уточненным заголовком, который расставляет над новыми левыми последние точки: «Дураки, мошенники и поджигатели».
В том, что Скрутон верен заявленной им самим установке на провокацию, читатель может убедиться на первых же страницах его опуса. Новая редакция книги, сходу утверждает автор, могла бы принести пользу сегодняшним студентам, «вынужденным продираться через вязкие тексты Делеза, серьезно относиться к безумным заклинаниям Жижека или верить в то, что за теорией коммуникативного действия Хабермаса стоит что-то большее, чем неспособность ее автора коммуницировать». В списке авторов, чьи идеи рассматриваются в книге (в той или иной мере уничижительно), помимо уже названных, оказались историки Эрик Хобсбаум и Перри Андерсон, философы Дьердь Лукач, Теодор Адорно и Луи Альтюссер, экономист Джон Кеннет Гэлбрейт и многие другие; объединяет же их то, что над ними витает дух Карла Маркса — главная мишень Скрутона.
Претензии автора к Марксу и «аффилированным лицам» практически ничем не отличаются от привычных аргументов консерваторов. Предлагая масштабные проекты социального переустройства, основанные на идеалах 1789 года — свободы, равенства, братства, — левые в действительности приводят общества к еще большей несвободе, неравенству и конфликтам, чем при «старых порядках»: Скрутона неслучайно называют наиболее последовательным представителем британского консерватизма после его отца-основателя Эдмунда Бёрка, одного из первых критиков Великой французской революции.
Но в переиздании Скрутон так и не позаботился о том, чтобы существенно обновить аргументацию тридцатилетней выдержки — и это дает левым все основания отплатить ему той же монетой. Возьмем, к примеру, утверждение Скрутона, согласно которому Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти и Эрик Хобсбаум были «апологетами ГУЛАГа» (подтверждающие этот постулат цитаты, в значительной степени деконтекстуализированные, мы не станем приводить здесь ради экономии места, читатель легко найдет их в книге). Но если вспомнить, скажем, недавнюю дискуссию о ГУЛАГе, всколыхнувшую российское медиапространство в связи с заявлениями некоторых должностных лиц о возможном привлечении заключенных к строительству БАМа, становится очевидным, что о советском принудительном труде сегодня одобрительно высказываются отнюдь не левые.
Не левые занимались и реформами пенитенциарной системы в США, в результате которых «население» американских тюрем кратно выросло просто потому, что их передача на аутсорсинг частному капиталу не могла привести к иному результату. Последний сюжет — куда более новый в сравнении с расхожими обвинениями французских левых в том, что они — духовные отцы Пол Пота, изучавшего марксизм в Париже, но Скрутон слишком сосредоточен на выяснении отношений полувековой давности.
Столь же тенденциозно выглядит и его критика конструктивистского подхода к феномену нации, который ассоциируется с именем Эрика Хобсбаума — крупнейшего британского историка ХХ века, чьи интеллектуальные заслуги, кажется, не вызывают сомнения даже у большинства правых. Однако Скрутон, приклеивая к Хобсбауму ярлык одного из ключевых представителей «ресентимента в Британии» и припоминая «с тяжелым сердцем» одобренный им исход событий в Венгрии в 1956 году, заявляет, что историк до самой своей смерти точно так же относился к «тем зверствам, на которые другие бывшие коммунисты смотрели с растущим возмущением». Пример Хобсбаума, по мнению Скрутона, показывает, «как далеко можно зайти в пособничестве преступлениям, если это преступления, совершенные левыми».
Впрочем, Скрутон признает, что «исторические работы Хобсбаума действительно увлекательны», а «широта знаний, которую они демонстрируют, сочетается в них с элегантным стилем» — схожее одолжение он делает, к примеру, и книгам Мишеля Фуко. Однако знаменитые работы Хобсбаума и его коллег по «национальному вопросу», и в частности сборник статей «Изобретение традиции» (1992), вызывают у Скрутона настоящее негодование.
Ему, конечно, приходится признать, что шотландские танцы и килты, процессия в честь лорда-мэра и прочие появившиеся не ранее XVIII века ритуалы национальной идентичности шотландцев, о которых писал один из авторов сборника, историк-марксист Хью Тревор-Роупер, являются продуктами воображения. Последним же бастионом подлинной — «неизобретенной» — традиции для Скрутона оказывается общее право англоязычных народов, содержащее прецеденты из XII века, которые имеют силу даже в судах XXI столетия. В самом деле, на что же еще ссылаться британскому консерватору — но, с другой стороны, как быть тем странам, которые начали создавать современные системы права только в ХХ веке? Очевидно, что им никак было не обойтись без пресловутого изобретения традиций, и за примерами далеко ходить не придется — отечественные духовные скрепы вам в помощь.
Пиррова победа над «всепобеждающим учением»
Главная же претензия Скрутона к Марксу и марксизму в его многочисленных изводах заключается в том, что автор книги в принципе не приемлет классовый подход к объяснению истории и общества. Любое рассуждение о социальных классах он изначально подозревает в приверженности левому «новоязу», а ключевой для марксистского объяснения современного мира термин «капитализм» вообще считает бесполезным — точнее, капитализм, с точки зрения Скрутона, просто безальтернативен, если единственной его альтернативой была давно почившая советская версия социализма.
«У себя в мансарде я могу отчетливо и упоенно представлять себе „ликвидацию буржуазии”. Но, спустившись в магазин на первом этаже, я должен говорить на другом языке. Только в каком-то очень отдаленном смысле женщина за прилавком принадлежит к классу буржуазии. Но если я все же выбираю относиться к ней именно так, то это потому, что меня околдовало само слово „буржуа”, и я пытаюсь распространить свою власть на эту личность при помощи данного ярлыка. Но в разговоре с реальным человеком — продавщицей — мне следует отказаться от самонадеянной претензии на власть и предоставить ей самой говорить за себя. Новояз, отрицая реальность, все усложняет. Действительность утрачивает гибкость, становится чуждой и враждебной. Отныне реальность существует, только чтобы с ней „бороться” и ее побеждать», — так, обращаясь к привычному для британских философов эмпиризму, объясняет автор свою неприязнь к классовому подходу.
В качестве ответа покойному британскому мыслителю можно привести не менее наглядное рассуждение исторического социолога Георгия Дерлугьяна — ученого, которого сложно записать в левые теоретики, пост- или неомарксисты, — из его книги с амбициозным названием «Как устроен этот мир». В этом пассаже за основу тоже взята встреча покупателя с продавцом:
«Где-то на улице большого города русская женщина покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-промышленной индустриализации. Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике. Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России» и т. д.
Для Дерлугьяна все эти узнаваемые в быту эмпирические детали открывают выход на большие теоретические вопросы. У Скрутона же декларируемый эмпиризм вторит приписываемому Маргарет Тэтчер заявлению о том, что общества не существует — за деревьями в самом деле сложно заметить лес.
Местами скрутоновская неприязнь к марксизму доводит его до весьма странных утверждений. Например, одна из главных претензий автора к Марксу заключается в том, что якобы именно он изобрел трудовую теорию стоимости (ценности). Это заявление заставляет усомниться в познаниях автора «Новых левых мыслителей» в области политэкономии, поскольку данное «лженаучное» учение придумал вовсе не Маркс, а те, на чьих плечах он стоял — Адам Смит и Давид Рикардо. И если уж на то пошло, большевики в своих экспериментах над экономикой во многом вольно или невольно следовали именно Смиту, а не Марксу: например, когда заменяли рыночное ценообразование директивным, рассчитывая цены именно исходя из трудозатрат (у Смита в «Богатстве народов» таких калькуляций немало). Но для автора «Дураков. » гораздо важнее то, что появление в конце XIX века теории предельной полезности, сформулированной маржиналистами во главе с Альфредом Маршаллом, «во многом подорвало влияние „Капитала”», — как будто это альтернативное объяснение процесса ценообразования и есть то самое всепобеждающее учение, неуязвимое для критики.
Но, как бы ни пытался Скрутон вычеркнуть марксизм из истории идей или принизить его значение, эта затея априори выглядит странно, учитывая то, что влияние марксизма выходит далеко за пределы левого фланга политического спектра, а сама фигура Маркса давно воспринимается в совершенно иных контекстах, чем пресловутое ленинское «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Например, Рэндалл Коллинз, один из живых классиков американской исторической социологии, в своей знаменитой книге «Четыре социологические традиции» рассматривает Маркса и Энгельса как крупнейших представителей «традиции конфликта» — наряду с такими фигурами, как Георг Зиммель и Маркс Вебер. Скрутон с его призывами к уважению институтов и права в этой классификации попросту оказывается представителем другой традиции, которую Коллинз называет рациональной, или утилитарной.
Поэтому набеги автора на территорию соседнего интеллектуального поля порой напоминают поход в чужой монастырь со своим уставом. Перечеркнуть целую традицию кавалерийской атакой точно не удастся, а заслужить среди оппонентов репутацию «дурака, мошенника и поджигателя» очень даже можно. Впрочем, все это отнюдь не отменяет того факта, что многие левые сами склонны вести дискуссию подобным образом, но не вполне понятно, зачем консерватору отвечать им в той же манере.
В конечном итоге возникает подозрение, что за риторикой Скрутона скрывается некая личная обида, которая возникла в эпоху холодной войны, да так там и осталась. «Почему после века социалистических бедствий и перманентного краха этого интеллектуального наследия левая позиция остается, так сказать, позицией по умолчанию для всех думающих людей, ищущих целостной философии? Почему „правые” маргинализированы в образовательной системе, оскорбляются медиа и рассматриваются политическим классом как парии, пригодные только подчищать после оргий буйного нонсенса, которым предавались морально превосходящие их?» — вопрошает автор в заключительной главе книги.
Между тем, если обратиться к актуальной левой повестке (точнее говоря, леволиберальной), то для нее «век социалистических бедствий» определенно остался в далеком прошлом, хотя некоторые правые политики (например, американские республиканцы) и продолжают эксплуатировать прежние страхи перед коммунизмом. В целом же для сегодняшних левых идеи равенства и социальной справедливости опосредованы новыми реалиями наподобие глобальных изменений климата, а в ряде случаев решения, предлагаемые левыми, находят полное понимание и на противоположном фланге. Показательный пример — концепция базового безусловного дохода, которую отстаивают как нынешние левые либералы, так и некоторые теоретики консервативного толка вроде американского политолога Чарльза Мюррея, близкого к республиканцам.
Другое дело, что эти новомодные доктрины также несут в себе риск превращения в некие тотализующие дискурсы, а свежие тому примеры — идеологии типа BLM и экологического активизма. В этом отношении работу Роджера Скрутона, несомненно, можно считать еще одним напоминанием об опасностях утопических проектов радикального переустройства мира, рождающихся в светлых головах интеллектуалов. Так или иначе, «Мыслители новых левых» — книга, написанная человеком, который глубоко убежден в собственной правоте, и эта его позиция мало кого оставит равнодушным: скрутоновская провокация по-прежнему в состоянии задеть читателя за живое.

Классическая литература по памяти о прошлом. Антология «Изобретение традиции» описывает одноименную концепцию, выдвинутую в начале 1980-х гг.: Новое время с его стремительными изменениями нуждалось в ориентирах – найденных в прошлом («изобретённых») традициях. Это «изобретение», конечно, имеет политическую подоплеку
Версия книги в режиме ограниченного просмотра – по ссылке .
Антология «Изобретение традиции» под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера вышла в свет в 1983 г. и с тех пор выдержала восемь переизданий. Оксюморон, заявленный в названии книги, поясняется её содержанием – авторы показывают, что
«традиции, которые кажутся или представляются старыми, действительно часто являются древними по происхождению, но также иногда – изобретёнными» [fn] The Invention of Tradition, eds. Eric Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge University Press, 2003. P. 1. – Здесь и далее цитаты приводятся по указанному изданию. [/fn].
Подобное «изобретение» характерно для Нового времени – когда в Европе возникают первые национальные государства (с идеей нации как объединяющего фактора), в период стремительных политических, экономических, социальных изменений (урбанизация общества, индустриальный рост и т.д.). Как это ни странно, но новые общества, создающие новую культуру (или общества старые, но кардинально трансформированные), нуждались в неких основах, ориентирах, которые они находили в связи с прошлым. Люди испытывали потребность в стабильности в ситуации быстро меняющегося уклада, когда настоящие, не мнимые, традиции быстро отметались и угасали. Поэтому традиции потребовалось изобрести.
«Традиция даёт иллюзию иммунитета перед переменами, даже если сами её образы стабильности были не более, чем репрезентациями современных представлений о прошлом», – поясняет П. Хаттон [fn]Хаттон П. История как искусство памяти. – СПб, Владимир Даль, с. 40. [/fn]
«Должна была быть изобретена историческая преемственность, например, путём создания древнего прошлого, не связанного с действительной исторической преемственностью, при помощи полувымысла (Боудикка, Верцингеторикс, Арминий Херуск) или подделки (Оссиан, чешские средневековые рукописи)» [fn] The Invention of Tradition, p. 7. [/fn].
Так, одна из работ, включённых в сборник – статья Хью Тревора-Ропера, рассказывает об истории якобы традиционной одежды шотландских горцев – килте. Эту мужскую юбку на деле придумал в 1730-е гг. английский промышленник Т. Роулинсон, который обратился к традиционной одежде шотландцев (накинутый на плечи и подпоясанный плед), укоротил её, отделив нижнюю часть от верхней и получив запахивающуюся юбку. Это сделало такую одежду удобной для фабричного труда, а кроме того, помогло Роулинсону привлечь на своё предприятие местных горцев. Подобную юбку носил и сам промышленник, пропагандируя её таким образом среди местных жителей. Клетка же (по которой, как принято считать, шотландские кланы определяют свою родовую принадлежность) была придумана портными викторианской эпохи спустя столетие (подробнее об этом сюжете – здесь).
«Изобретённые традиции» отличаются от обычаев (custom), установленных правил (convention) или общепринятых практик (routine). Традиции – и старые, и новые – инвариантны; прошлое, к которому они обращаются, зачастую за счёт бесконечных повторений, претворено в фиксированные и формализованные практики. Обычай более гибок.
«Обычай – это то, чем занимаются судьи, «традиция» – это парик, мантия и другие внешние атрибуты и ритуализированные практики, окружающие их основную деятельность» [fn] Там же, p. 2 – 3. [/fn].
Конвенциональные, установленные правила также являются инвариантными, но они приспособлены к практическим потребностям, и с изменением этих потребностей их можно изменить или отменить.
«Изобретение традиции – это процесс формализации и ритуализации, с которыми связано обращение к прошлому, пусть даже происходящее за счёт обязательных повторений» [fn] Там же, p. [/fn].
Происходит поиск ритуалов, церемоний, любых других приёмов, которые связывают группу с прошлым, а также нацелены на «рутинизацию» новых обрядов. К таким приёмам Хобсбаум относит установление новых праздников (это, в свою очередь, связано с разработкой новых общественных церемоний), преподавание по новым школьным учебникам, спортивные состязания, поиск новых героев и символов – что обуславливает появление новой архитектуры, а также массовое возведение памятников.
Таким образом, события прошлого посредством традиции включаются в обстановку настоящего.
«При таком «затмении» чувства времени возникает скорее эмоциональная связь с прошлым, чем критический взгляд на него» [fn] Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом. Том 2, с. 420. [/fn].
Важно ещё одно наблюдение: изобретение традиции происходит в обществах, которые поддерживают иллюзию демократии. Формально политические силы таковы, что необразованное большинство (например, пролетариат в ряде европейских стран, в конце ХIX – начале ХХ вв.) оказывается способно претендовать на власть – что вызывает страх элит, находящихся у власти, отсюда стремление удовлетворить желание большинства чувствовать себя причастными чему-то славному, сильному – возникает и разрабатывается идея общей нации. Это наблюдение разовьётся Хобсбаумом в его последующей работе 1990 г. «Нации и национализм после 1780 года», в которой он отмечает, что национальные феномены имеют двойственный характер. С одной стороны, они артикулируются, конструируются элитами, но в то же время изучение феноменов нации и национализма непременно должно вестись с учётом убеждений, предрассудков, потребностей простых людей, которые вовсе не обязательно являются национальными/ националистическими.
Подобное внимание – одновременно к верхушечной идеологии и массовому сознанию – позволяет Хобсбауму как редактору сборника и автору статей ответить на вопрос о различии между «изобретением» и «спонтанным появлением» традиции:
«Изобретённые традиции имеют очевидные социальные и политические функции, и никогда бы ни возникли, ни установились само собой, если бы их не подразумевали. <…> Намерение использовать и часто – изобрести их для манипуляции очевидно; и то и другое происходит в политике, первое (в капиталистических обществах) – в бизнесе. <…> При этом совершенно ясно, что примеры наиболее успешной манипуляции – когда разработанные практики отвечают действительным – и не обязательно отчётливо осознаваемым – потребностям конкретных людей» [fn] Eric Hobsbawm, Mass-producing traditions: Europe, 1870 – 1914 //Representing the Nation: A Reader. Eds. David Boswell, Jessica Evans. – London, New York: Routledge, 2007, p. 82. [/fn].
Концепция «изобретения традиций», выдвинутая в начале 1980-х гг., до сих пор актуальна. Так, например, возникновение новых государств Восточной Европы в конце ХХ в. было сопряжено с поиском веских оснований для объединения граждан – отсюда ревизия исторического знания, усиление религиозных, националистических движений, организация этнических фестивалей, «реанимация» национальных языков, бум в возведении новых памятников и музеев, появление новых праздников и сопряжённых с ними обрядов и ритуалов и т.п.
Попалась мне статья Эрика Хобсбаума "Изобретение традиций" - предисловие к одноимённому сборнику научных трудов. В ней и в этом сборнике в том числе говорится о том, что многие современные традиции - выдумки от силы 17го века, зачастую - конца 19го - начала 20го.
В этой же работе было несколько моментов, которые меня позабавили. Теперь вот не могу без улыбки видеть, слушать или читать про "традиционные ценности" и государственную политику, направленную на их поддержку.
Во-первых, Хобсбаум разводит понятия "традиции" и "обычая". Первое по нему это нечто неизменное, догматичное и не объясняющее смысл каких-либо действий, которые призывает человека совершать. Второе же - берёт начало из так называемых "традиционных обществ" и является наполненной смыслом деятельностью, которая совершалась из поколения в поколение, и которая может дать ответ на вопрос о смысле каких-либо действий. Просто потому что подобные вопросы уже не раз задавались, и не раз давались на них ответы. Притом "обычай" не противопоставляет себя нововведениям до тех пор, пока они способны встроиться в некий достаточно гибкий уклад.
Разница между «традицией» и «обычаем» в нашем понимании этих слов хорошо иллюстрируется следующим образом: в суде «обычай» — это то, что судьи делают, тогда как «традиция» (и в данном случае именно изобретенная традиция) — это парики, мантиии другие формальные принадлежности и ритуализированные дейст вия, сопутствующие собственно действию.
Во-вторых, в этой статье Хобсбаум говорит о том, что свидетельство разрыва в процессе передачи традиции - это требования к её охране, возрождению и сохранению. Требования, исходящие от каких-либо социальных групп или даже от государства. Грубо говоря, живую передающуюся традицию не надо охранять и прививать на государственном уровне - она и так жива и здорова, передаваясь от поколения в поколения.
И вот тут уже у меня возникло следствие из этого: если какая-либо группа людей, пусть даже на государственном уровне, заявляет о том, что некая социальная практика является традиционной и её нужно оберегать и пропагандировать, то либо эта социальная практика отброшена обществом как ненужная (и да, я не считаю, что в таком деле общественный организм может ошибаться, отбрасывая работающие полезные практики), и поэтому они нянчатся с трупиком в угоду своих политических целей. Либо, если эта практика живая, то эти люди глупые и не понимают, что и без их вмешательства всё прекрасно работает.
Читайте также:

